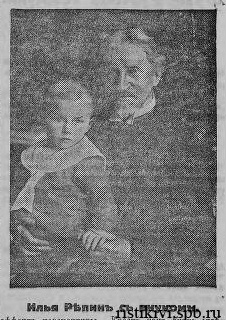Карельский перешеек 1920-1930-х годов в эмигрантской прессе
В. Пастухов. В гостях у И. Е. Репина
Источник: Сегодня, 8 августа 1926 года (Рига)
В. Пастухов. В гостях у И. Е. Репина.
В теплый и дождливый летний день впервые переступил я порог «Пенат» — виллы И. Е. Репина. Не без волнения ожидал я встречи с гениальным мастером кисти, чьи произведения уже в ранней юности пленяли и волновали меня.
Изысканный мастер красок и рисунка, он никогда не останавливался на достигнутом и искал все новых и новых путей для выражения своих гениальных замыслов. Он принадлежит к числу немногих художников мыслителей и провидцев. Его картины двигали не только русскую живопись, но и вообще русскую мысль.
Кто из видевших его картину «Иоанн Грозный с убитым сыном» позабудет выражение глаз Грозного царя, их взгляд беспомощный и потрясенный?
Кто не помнит могучих, рожденных в просторе русских степей диких и вольных запорожцев? А его портреты? Мусоргский, Рубинштейн, Писемский, Кюи?..
Как умел Репин в их лицах вскрыть самое затаенное, умел на мертвом полотне заставить жить вечной жизнью эти отошедшие и дорогие нам лица...
От калитки с причудливым рисунком к дому ведет тенистая аллея.
В передней надписи, напоминающие период увлечения Репина идеями раскрепощения прислуги И построения жизни на началах самопомощи и гуманности.
«Снимайте пальто и галоши сами».
«Бейте весело и смело в гонг сами».
***
Сам хозяин радушно и приветливо встречает гостей в столовой за знаменитым круглым вращающимся столом. Вращающийся стол тоже изобретение для раскрепощения прислуги. Все сидящие могут сами себе все достать, повернув за ручку вращающую середину стола.
Личное обаяние И. Е. Репина неотразимо. Он как бы весь светится душевной простотой и духовным светом.
Столовая увешана картинами самого Ильи Ефимовича, его сына и других художников. Среди этих картин приковывает внимание портоетъ кн. Сергея Михайловича Волконского работы И. Е. Репина. Замечательно схвачено умное выражение глаз С. Волконского, его аристократический поворот головы и нервные линии рук.
Вместе с Ильей Ефимовичем гостей принимает его дочь — талантливая драматическая актриса, игравшая в Суворинском и Александринском театрах в Петербурге.
Репин — страстный любитель музыки. Он просит меня играть и не устает слушать и долго просит играть еще и еще. Особенно интересуют его произведения русской музыки, в частности Мусоргского.
Илья Ефимович делится воспоминаниями о том времени, когда он писал Мусоргского. Это было незадолго до его смерти. В этот период жизни Мусоргскому приходилось вечно бороться с материальными затруднениями. Его страсть к алкоголю постепенно испортила его личную жизнь. В. Стасов — один из немногих в те времена, ценивший творчество Мусоргского, поддерживал его материально и морально.
Но как только Стасов уезжал из Петербурга, Мусоргский опять предавался своей пагубной страсти, пропивая все до последней рубашки и Стасову по возвращении приходилось его разыскивать по темным кабакам. Вместе со Стасовым приходили Мусоргскому на помощь и его однополчане и когда Мусоргскому нечем было платить за квартиру, устраивали его на жительство в офицерское собрание.
Туда и ездил Репин писать с него портрет. Портрет этот широко известен по многочисленным репродукциям. Он остался не вполне законченым, так как однажды, когда Репин приехал на сеанс, он застал Мусоргского уже мертвым. Так преждевременно погиб этот величайший русский композитор, чье творчество удивляет сейчас весь мир. Но при жизни Мусоргский далеко не пользовался признанием и почетом.
Репин по этому поводу рассказал мне следующую историю.
Он писал в то время по заказу картину «Славянские музыканты», где были изображены русские, польские, чешские композиторы. Когда Репин предложил написать там среди них Мусоргского, заказчик ему ответил: «Сохрани Бог! Мне «мусора» не надо!»
Только В. Стасов и Кюи писали пламенные статьи о Мусоргском, но они не находили отклика ни в публике, ни у большинства музыкантов. Так окруженная глухим непониманием и враждебностью, погибла жизнь этого гениального человека.
***
Вспоминает также Репин свои встречи и со многими другими композиторами, портреты которых он писал и с которыми его связывала личная дружба. Он рассказывает о первом выступлении Глазунова.
Впервые исполнялась его первая симфония. Глазунов был еще гимназистом. Это произведение было таким зрелым по технике композиции, по архитектонике формы и оркестровке, что незнавшие Глазунова люди не верили своим глазам, когда на вызовы публики вышел раскланиваться гимназист в син. мундирчике. Помазанский поднес ему венок от русского музыкального общества и сказал, что он счастлив тем, что на его долю выпала честь первым приветствовать будущую гордость русской музыки.
Вспоминает также Репин, как при нем привели к Рубинштейну робкого, красивого мальчика. Он страшно волновался, но Рубинштейн, несмотря на то, что тот от волнения едва попадал на клавиши, сразу заметил, что у мальчика недюжинный пианистический талант. Этим мальчиком был знаменитый русский пианист Александр Ильич Зилоти. Я ярко представляю со слов Репина эту сцену и мне трудно в «робком мальчике» признать моего любимого учителя, перед которым я сам когда-то трепетал и перед которым и посейчас не перестал преклоняться.
Дочь Ильи Ефимовича по моей просьбе выразительно и прекрасным голосом поет несколько романсов Мусоргского.
***
Речь с музыки переходит на живопись. Чувствуя некоторую банальность своего вопроса, спрашиваю у Репина, какие из своих картин он всех больше любит.
— Ни одной, - отвечает Репин.
— Я люблю картину только первые два часа после ее окончания. Мне тогда кажется, что действительно я чего-то достиг, но потом быстро является разочарование...
Слушаю и понимаю причину этой вечной юности искусства Репина. Только душа, вечно ищущая, неудовлетворенная, не застывает в раз созданных рамках, а всегда стремится выше и выше.
Этот разговор вспомнил я, когда увидал новые картины Репина. Это случилось не в первые дни моего посещения, так как тогда картины были еще в дороге из Франции, где была выставка картин Репиных — отца и сына. При взгляде на эти картины, из которых есть помеченные 1924 и 1925 г., меня поразили неувядаемость, свежесть и избыток творческих сил у художника, которому уже свыше 80 лет. Среди этих картин есть одно творение, врезавшееся мне в память.
Я не знаток и не специалист по живописи и чувствую картины каким-то шестым чувством, ничего не понимая в профессиональной технике живописания, поэтому, конечно, я могу пройти мимо каких-то технических достижений и остановиться на картине, которая почему-либо отвечает моим личным настроениям и переживаниям. Поэтому я боюсь утверждать, но мне кажется, что самая сильная работа Репина за последние годы, достойная стать рядом - а может быть и выше его знаменитейших картин, — это портрет священника, написанный в 1924 г. со священника русской церкви в Куокалле. На этой картине священник изображен в полном облачении, держащим крест. Лицо священника благостно и дышет простодушной и крепкой верой.
С точки зрения чисто внешней необычайный эффект перспективы. Крест как будто отделяется от полотна. Психологически и духовно я вижу в этой картине выражение души православия. Ведь не мелочами догматов и обрядов различается православие от католичества, а внутренним духом своим. Дух католичества воинственно-практический и мистически-экстазный. Дух православия спокойно-созерцательный и молитвенно-милосердный.
Простота, умиленность, благолепие, по детски чистая вера, заключены в этих мягких и добрых чертах старенького священника. Может быть, дав нам почувствовать когда-то удаль казацкой вольницы, кровь, проливаемую жестокими и властвующими, смелость идущей в беспредельный простор вольной русской мысли, Репин теперь в просветленности старости, которой открывается высшая и успокоенная мудрость, озарил своим искусством вечную святость русской веры.
***
Впервые мне удалось увидеть также скульптурные работы Ильи Ефимовича. Среди них замечателен бюст Толстого. Он стоит на центральном балконе.
И невольно приходит мысль, что Репина с Толстым связывает какое-то высшее внутреннее родство. Ведь в русской живописи Репин занимает место, подобное тому, как Толстой в русской литературе. И та же гениальная простота технических приемов при огромной внутренней проникновенности роднит этих титанов русского искусства.
В. ПАСТУХОВ1.